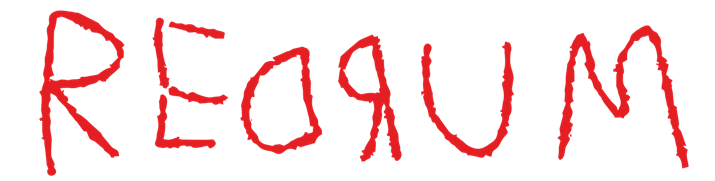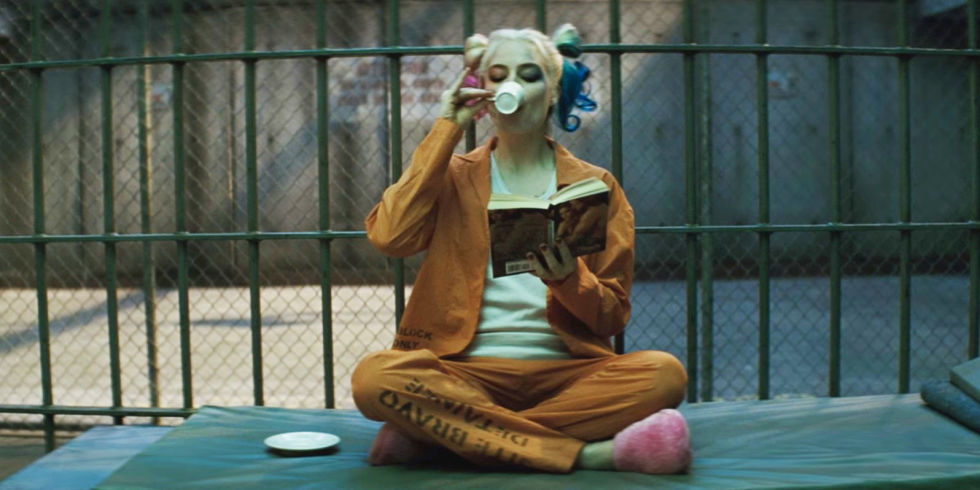Заглянул вчера в «Гоголь-центр» на премьеру «Ученика» Кирилла Серебренникова. В 2014-м он поставил спектакль «(М)ученик» по пьесе немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга. Один из лучших спектаклей репертуара «Гоголь-центра» и, пожалуй, один из лучших в театральной карьере Серебренникова. Фильм же — не перенос на экран опробованных на зрителях мизансцен, а, скорее, новое прочтение хорошо знакомого материала. В конце концов, театр и кинематограф — разные виды искусства, один в один тут не сработаешь. Даже имея на то желание и намерение.
Главный герой — старшеклассник Вениамин Южин (Пётр Скворцов) — без видимых причин (поначалу все списывают случившееся на классический подростковый бунт) начинает сверять каждый свой шаг, поступок и слово с Библией. Он не просто приводит цитаты по поводу и без, а фактически говорит языком священного писания. Его гнев вызывает практически всё: мать-одиночка (Юлия Ауг), одноклассники, учительница биологии Елена Львовна (Виктория Исакова), состояние общества, и даже служители церкви. Единственным другом прозревшего Вениамина становится калека Гриша (Александр Горчилин). Тот тоже, кажется, готов уверовать в Христа, но для этого надо чуть-чуть подождать.
Серебренников анализирует природу религиозного фанатизма, гомофобии и антисемитизма. В их основе лежит страх перед Другим и страх Другого. Вместо того, чтобы принять или хотя бы попытаться понять другую точку зрения, другой способ существования и любую прочую инаковость, человек прячется в панцирь закостенелых догматов, используя их в качестве несокрушимых аргументов. Апелляция к Библии — не просто защитный механизм, а призыв к действию. Всё, что было сказано и написано две тысячи лет назад не может быть неправдой. Неправда (по Вениамину) вокруг, истина — в Евангелие. На подобной идеологии зиждется любая тоталитарная власть, только место Христа занимает живой человек, находящийся на верху социальной лестницы, не желающий вставать с насиженного места. Кругом враги, наша сила в единстве и прочий набор шаблонных манипуляций, используемых в таких случая, мало чем отличается от речей первых христианских святых. Только они власть (власть над умами) захватывали, а условный политический деятель её пытается сохранить, удержать. Во всём остальном — никакой разницы.
Если «Левиафан» Андрея Звягинцева критиковал не православие, а именно РПЦ, то «Ученик» обращён к фундаментальным категориям любой веры. Верую, ибо абсурдно, сказал когда-то не самый глупый человек Тертуллиан. И что на это можно возразить? Правильно. Ничего. Проблема возникает тогда, когда подобный принцип становится идеей-фикс отдельно взятого человека или сообщества людей.
Уже в «Измене» чувствовалось, что режиссёр Серебренников нашёл удобный для себя киноязык. «Ученик» эстетически этот киноязык развивает (не повторяет, а именно развивает). Это — и визуально, и по смысловой нагрузке — европейское кино самого высокого уровня. Тут можно (и нужно) спорить о частностях, но базовое качество проделанной работы не вызывает никаких вопросов и сомнений. Штучной выделки вещь.
Жизнь часто имитирует искусство. Достаточно открыть новостные ленты, чтобы понять: режиссёр Серебренников попал в точку, в яблочко. Грустная констатация, но для настоящего художника — высшая похвала.