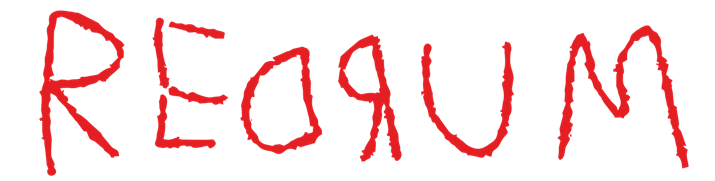Режиссёр Косински это всегда, как минимум, любопытно.
The Way of Water
Разродился.
Просторы

Посмотрел первый сезон сериала «Внешние сферы», о котором уже доводилось упоминать. Но тогда — в контексте трейлера, когда ещё ничего не понятно, кроме качественного сделанного тв-ролика (по умолчанию рекламного), а сейчас уже можно и тот самый предметный разговор завести.
Артист Бролин играет фермера из штата Вайоминг, обнаруживающего на бескрайних просторах собственного хозяйства дыру аномального происхождения. У неё нет дна, а время и пространство начинают танцевать причудливые танцы при погружении в неё хотя бы руки (не говоря уже о полном погружении).
Классический пример, когда заявка была куда мощнее реализации. Причём запал тут убывает от серии к серии. Примерно к середине сезона формируются все ключевые вопросы, имеет место интрига, и самое время начать хотя бы порционно давать какие-никакие ответы. Ан нет. Создатели продолжают лезть в совсем непроходимый бурелом, где смешиваются всё и вся, а мотивация героев начинает вызывать серьёзные сомнения. В финальной серии сезона и вовсе возникает устойчивое ощущение, что никаких ответов у сценаристов не было изначально. Набросали пунктиром основные сюжетные линии, а дальше будь что будет.
Печально, когда ещё во время съёмок первого сезона создатели держат в голове второй, воспринимая свою работу лишь как раскачку для будущих (в следующих сезонах) свершений. Так оно не работает. Зритель что-то должен получать взамен.
В сущности, получился проходной сериал. Не трагедия, мягко выражаясь. Обидно лишь то, что сам замысел позволял сделать куда более тонкую и насыщенную работу.
Мультивселенная

Не прошло и полгода, как добрался до художественного фильма «Всё везде и сразу» режиссёрского дуэта Дэниел Шайнерт — Дэн Кван, где артистка Йео в онлайн-режиме осмысляет новую картину мира, вмещающую в себя тысячи версий казалось бы привычной реальности.
После громкого дебюта — «Человек — швейцарский нож» — Дэн и Дэниел продолжили разрабатывать золотую жилу высококачественного абсурда, замешанного на последних открытиях квантовой физики и фундаментальных понятиях буддизма. Плюс — боевые сцены, снятые с вдохновением и очевидным пиететом к лучшим образцам. С точки зрения жанровой принадлежности получилось лоскутное одеяло, на котором без труда можно узреть и комедию, и сатиру, и боевик, и драму, и научную фантастику, и философскую притчу. Впрочем, вся эта жанровая «угадайка» применительно к «Всё везде и сразу» достаточно условна. В первую очередь, это авторский взгляд, ярко выраженный режиссёрский почерк.
Получилось оригинально. Понятно, что на уровне деталей Шайнерт и Кван опирались на многочисленных предшественников (по-другому, пожалуй, и не бывает), но в итоге, на уровне результата сложилось по-настоящему самобытное высказывание. Высказывание на десяток разношёрстных тем, с массой тонких наблюдений и просто качественным юмором. Что в наше время ценно само по себе. Тот случай, когда амбиция замаха почти полностью коррелирует с нанесённым ударом.
Единственная капля дёгтя (не капля, скорее капелька): не умение или не желание вовремя остановиться. Обуздать собственную фантазию, осознав, что всё уже сказано и можно запускать финальные титры. Такое случается и, строго говоря, ненаказуемо. Кто ж авторам прикажет. Чувство меры, видимо, наработается с годами. Но даже с учётом этой оговорки, режиссёрам за проделанную работу хочется сказать большое человеческое спасибо.
It all started here
Как говорится, скоро на всех торрентах страны.
Любимая работа
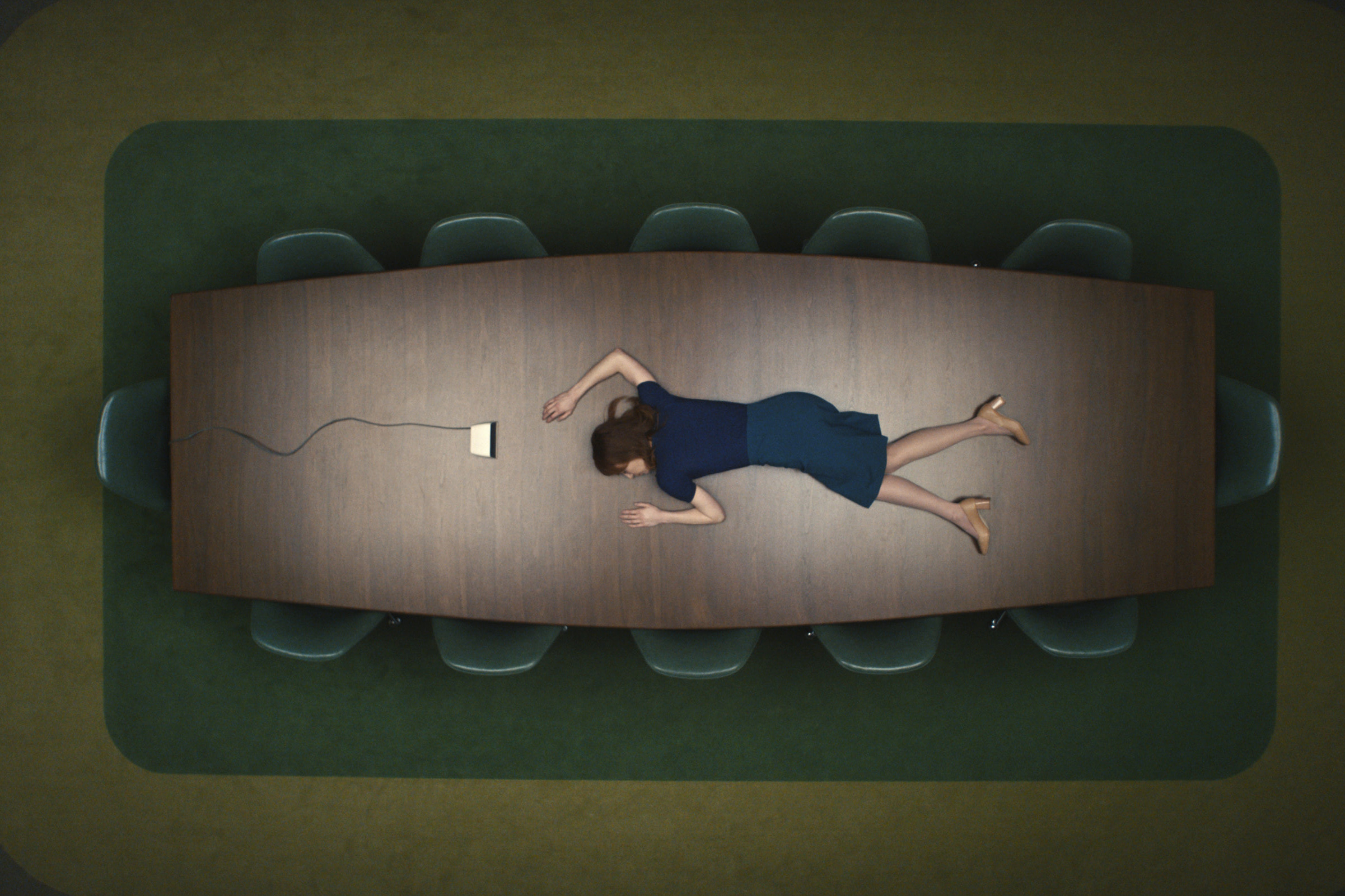
Да, так вот о первом сезоне сериала «Разделение» режиссёра Бена Стиллера (при участии Ифы Макардл), здесь уже упоминавшемся. Девять серий минули как одна, потому и слово можно молвить.
К сериалу, пожалуй, можно предъявить лишь одну существенную (степень этой существенности каждый определяет для себя, кто-то и вовсе не согласится с такой постановкой вопроса) претензию: долго раскачиваются. До 6-7 серий всё это напоминает сонное царство, в котором какая-никакая драматургия конечно присутствует, но карт на стол никто не выкладывает. Зато финальные эпизоды — шик, блеск, красота! После такого финала хочется лишь одного: ждать продолжения.
Во всём остальном — крепко сбитая работа с интригующей задумкой (забавно, но таковой она осталась и поныне, кое-какие контуры появились, но в целом понятно лишь то, что ничего не понятно), выверенным до миллиметра визуальным рядом (цветовое решение заслуживает отдельного упоминания) и яркими персонажами. Тот случай, когда всё сделано с умом и на совесть. При этом важно, что предложенный концепт не рассыпается на части после второй серии, а сохраняет, так сказать, конструкцию. Удерживает зрительское внимание, заставляет волей-неволей выстраивать собственные теории и догадки.
Словом, не банально и точно не конвейерная сборка. Сборка тут ручная.
Артист Кейдж на линии
Разговоры разговаривать. Part 51
Незаметно подкралось последнее воскресенье месяца. Здесь можно писать (и обсуждать) любые фильмы, сериалы и другие кинотемы, не боясь каких-либо обвинений и санкций. Делиться впечатлениями от увиденного за последнее время и т.д. и т.п.

Unmask The Truth

Да, так вот о художественном фильме «Бэтмен» режиссёра Мэттью Ривза, где артист Паттинсон в костюме человека-летучей мыши пытается понять, что почём в мимикрирующем под Готэм Сити Нью-Йорке.
После нолановской трилогии (Бэтмена в исполнении артиста Аффлека в настоящий момент можно рассматривать скорее как курьёз, при том, что некое очарование имело место и в таком прочтении) браться за полноценный перезапуск легендарной франшизы было рисково, опасно и… в то же самое время невероятно интересно. Просто с точки зрения полёта мысли и фантазии. Ведь с одной стороны, чем чёрт не шутит. А с другой, закономерный «проигрыш» — при всей условности любых сравнений — никто не сочтёт за откровенный провал. В итоге за дело взялся режиссёр Ривз. Тёртый калач, ни разу не опускавшийся ниже определённой планки (не самой низкой в общей системе координат голливудской холмистой местности). Что само по себе вызывало определённый интерес.
В итоге получилась очень крепкая работа, звёзд с неба не хватающая, но сделанная на совесть: с любовью, талантом и очевидным рвением. Ривз работает не по лекалам или конспектам, и не пытается обойти на повороте уже упомянутого английского коллегу по цеху, а создаёт собственное пространство, в котором присутствует, как здоровая щепотка реализма, так и вполне ощутимая комикс-составляющая. Он не подсматривает (хотя отсылок тут выше крыши) и подворовывает, скорее строит-сочиняет что-то своё. По ремесленному крепкое и с вполне внятной эстетической составляющей. Когда как не менее важно, чем что.
«Бэтмен» Ривза не триумф и не «главное событие года» (если подобные маркетинговые ходы ещё кто-то использует). Но и не ужас-кошмар и тому подобное. Это вдумчивая и хорошо продуманная работа. О которой совершенно точно можно спорить, дискутировать, обсуждать, говорить. Вырастит ли из этого новая франшиза — вопрос. На самом деле, не хотелось бы. Это фильм-одиночка, не нуждающийся в сиквелах. Цельное высказывание, сделанное на совесть. В таких случаях лучше не продолжать. Тот случай, когда на 99% дальше — хуже. Для самого же Ривза не то чтобы внушительный шаг вперёд, но однозначная проверка на прочность, которую он без сомнений прошёл. Чего уже, если вдуматься, вполне достаточно.
P.S. Артист Фаррелл! Снимаем шляпу!
Любовь и гром
Отлично!